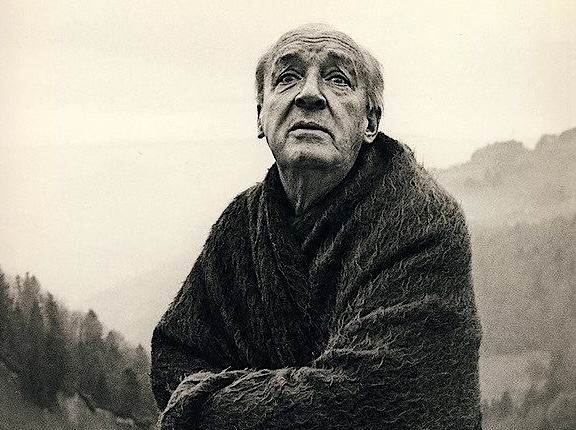Мы сидим в маленькой гостинице в Червинии, за окнами ноябрь и метель. Алексей с друзьями приехал покататься на лыжах специально в несезон, потому что «в сезон» у «Несчатного случая» бывает множество концертов, а все они – убежденные горнолыжники. Вот и вспоминаем мы за стаканом граппы былые дни, когда туроператоры поднимали мы в Альпы чартеры, а здесь в Червинии ребята отжигали свои концерты в рамках легендарного уже «Ски-феста».

«ВЫШЕЛ НА СТАНЦИИ, ХЛОПНУЛ СТАКАН…»
«Несчастному случаю» — четверть века. Для истории нашей страны этот период вмещает две эпохи. Слетать в Австрию, в Майрхофен, где мы с тобой, собственно, и познакомились, чтобы просто покататься на лыжах, поплясать на вашем концерте, и заглянуть в музей «Сваровски», — это нынче даже не удача, а стиль жизни. А когда-то первые встречи внешним миром вызывали у людей культурный шок…
И еще какой! Моей первой из «дальних стран» была Финляндия, сразу, минуя Польшу, Болгарию, Венгрию, которые следовало советскому гражданину посетить, прежде чем его выпускали в так называемые капстраны (кап- сокращение от «каписталистические». – Прим.ред.). Попал я туда в 1985. Или в 86-м? Или нет, скорее 88-й – 89-й… Я очень плохо помню даты. Очевидно, раньше бы мы вряд ли пролезли бы через ОВИРы и прочие согласовательные инстанции. Ну, не важно. Мы приехали со студенческим театром МГУ на фестиваль какого-то театра в городе Миккели. Это крошечный такой городочек недалеко от Турку. И там мы попали просто в какой-то заснеженный рай. Я помню свое ощущение, как от некого переворота в сознании… Оно случилось едва мы миновали границу. Из окна своего вагона я увидел детей, маленьких школьников, стоящих на платформе. Они, очевидно, ехали в школу на электричке. Это был класс человек двадцать, с учительницей, и все они были одеты как попугайчики – в красных, желтых, синий, зеленых курточках и шапочках. И яркие-яркие, на фоне белого снега! То есть они были одеты так, как сейчас, слава богу, в Москве, одеваются дети. Но тогда это было просто ошеломление, потому что представить себе, что человек – большой, маленький – не важно, может быть одет не в коричневый, не в черный, не в серый, и не в хаки, тогда просто было не возможно. Весь вагон просто прилип к окну. После этого у меня в жизни начался период ярких одежд. В обмен на ввезенные бутылки водки и черную икру, (это был обменный фонд, так как валюту тогда законно поменять было не возможно) я привез себе немного одежды.
Из варяг в греки …
Конечно. За валютные операции в СССР людей расстреливали, а дарить подарки финским трудящимся, и принимать от них ответные дары было в рамках закона. И вот, в результате всех этих обменов, я приехал в Москву в красной куртке с бирюзовой подкладкой, в ярко-зеленых, квази-вельветовых, с рубчиком в 1,5 сантиметров толщиной штанах с искрой, в черных красивых ботинках, в которые я вставил красные шнурки… О! Это была креативнейшая идея! А там я накупил всяких шарфов и шапочек ярких акриловых расцветок, и таких же, им в тон, шнурков. Менял шарфы и шапочки каждый день, и при этом не ленился, представь себе, встав утром, в черные ботинки вставлять новые шнурки. И получались у меня каждый день новые ботинки!
Как новый костюм получается с новым галстуком.
Типа того. Период эпатажных нарядов длился не долго. Хотя сегодня я почему-то опять в красной куртке, но в принципе мужчина обычной возвращается к цветам мимикрии… Вот ты одет правильно. Черное, серое, джинсы…
Ну а что из традиционно мужских украшений тебе импонирует? Часы?
Да, часы я люблю. Но для меня они не предмет культа. Здесь я боюсь разочаровать читателей, но больше всего элитных часов – всяческих «лонжинов» и «картье» у меня появилось после недавней Олимпиады в Пекине. По этому поводу я вполне разделяю английскую поговорку: «Если это выглядит как собака и лает как собака, то это и есть собака».
В эпоху постмодернизма то что выглядит и лает как собака, при определенных обстоятельствах может оказаться, допустим, осетром. А где ты в те голодные времена добыл осетра?
Осетра в поздние советские годы было принято добывать преимущественно на Арбате. Икра была, была куплена с рук. Она была, конечно, осетровая, но вообще-то сделана из нефти, как потом оказалось. Сейчас ее по-моему, нигде продают.
«НА РАССТОЯНИИ ПОЛУКИЛОМЕТРА ЗА НИМИ ШЕЛ МАЙОР ПЕТРОВ…»
Вы родом из СССР, где «генералы не дают нам спать, хотят видеть тебя, чтобы двигать тебя», где «в тишине типовых дворцов разместили кремлевских вдов», где «запасают свободу впрок — на случай если мороз». И так далее. Приходилось ли отвечать перед советской властью за эдакий базар?
Есть соблазн прикинуться страдальцем за правду, но это не так. Не буду врать. Нас никогда никакие репрессии, даже самые мизерные, не касались. Все-таки, когда мы начинали, время было уже другое. Мы начали выступать не в компаниях, а на сценах тогда, когда все эти худсоветы уже сдохли. Мы как-то проскочили на гребне волны. Появись мы даже годом раньше, были бы проблемы.
Тема политического и даже социального, или, точнее, асоциального, протеста, протеста против диктатуры уже не власти, а серой массы — это тема, принесенная «гребнем волны»? Или она органична состоянию художника вообще?
Здесь нет противоречия. Нам всегда было интересно петь о том, что нас окружает и лично волнует, но для того, чтобы видеть реальность, от нее следует дистанцироваться. В этом плане тема политического протеста дается гораздо проще, потому что вот «ты», а вот — «они». Соблюдать дистанцию от массы, к которой по умолчанию ты сам принадлежишь, гораздо сложнее.

Так появляется мыслящий субъект, зажатый тисками социальных отношений, обстоятельств, обязанностей? Думаешь, ты эльф на цветке, весь такой уникальный, а под тобой роют метро. Или созерцаешь себя среди столбов… «Рубанки нам разгладили лбы»…
«…Мы не рабы, зато мы столбы». Мы всегда придерживались принципа петь про то, что сам переживаешь, про то, что конкретно с тобой лично происходит. Так же как я не пытаюсь писать песни для людей моложе или старше себя, я пишу для людей одного со мной поколения или, скажем, дельта-окрестности поколения — плюс-минус пять лет.
А сколько тебе лет?
Пятьдесят один.
Как представитель целевой аудитории могу сказать, что, приезжая в Новосибирск, вы там производили гораздо больший резонанс, чем даже сами догадываетесь.
О том, о чем я не догадываюсь, я догадываться не могу, а вот то, что «Несчастный случай» там производил резонанс гораздо больший, чем в Москве, это совершенно точно. Особенно в начале 1990-х, когда мы несколько раз, приезжая в Новосибирск, чувствовали, что люди принимают нас в статусе популярной российской группы, коим мы тогда ни в коей мере не обладали, поскольку за пределами Новосибирска были известны еще только в Московском университете. И все.
Вас там до сих пор считают своими.
Конечно, своими. В нашей команде два музыканта из Новосибирска.
«МОЙ БЕДНЫЙ РУССКИЙ РОК, МОЙ БОГ, А МОЖЕТ, БЕС…»
Складывается впечатление, что за 15 постсоветских лет вы как бы переключились из философски-социального регистра в развлекательный. Я намеренно избегаю таких понятий как «попса». Любой жанр способен ретранслировать бытийные смыслы… Мне кажется, что «Несчастный случай» и в несерьезном жанре продолжает обозначать весьма серьезные гуманитарные проблемы.
Спрос на развлечение — это глобально-карнавальное состояние современной культуры. Карнавал как тренд. Я бы не сказал, что мы от чего-то ушли и к чему-то пришли, если рассматривать весь отрезок нашего существования — а это 24 года, — то мы по-прежнему поем достаточное количество песен, которые не развлекают, а, скорее, сосредотачивают.
В каких ситуациях вы поете такие песни? На концерте на горнолыжном курорте Майрхофен на чью-то просьбу спеть «Армагеддон» ты ответил, дескать, серьезных песен не поем.
В Майрхофене, и это совершенно точно, мы серьезных песен не поем. Потому что люди туда приезжают не для того, чтобы слушать о смерти, бедности, воспитании детей. В Майрхофене мы играем танцевалку, так как туда приезжают веселиться и отдыхать. Для следующих поездок я вообще хочу подготовить «Лыжи у печки стоят» в драйвовой танцевальной обработке, чтобы народ танцевал уже целенаправленно. В круг моих амбиций не входит навязывание экзистенциальных истин публике, которая пьяна и только что со склона. И наоборот, если в Центральный дом художника приходят люди, чтобы провести полтора часа, слушая, не шелохнувшись, музыкально выраженную философию — так исторически сложилось, — то зачем я этой аудитории буду петь «Что ты имела в виду».
И чем вы руководствуетесь, когда решаете, как говорил Валдис Пельш, какие песни из прошлого «ингумировать», а какие, напротив, «эксгумировать»?
Критерий для эксгумации один. Соскучились. Потому что песенки — они действительно как дети… Но все-таки случается, что какая-то из них бегает во рту, мелькает перед глазами, надоедает. И ты ее выплевываешь на несколько лет. И когда эти несколько лет проходят, ты вдруг думаешь: вот надо же, пропадает такая хорошая песенка… Вот, к примеру, буквально три песенки, которые мы эксгумировали недавно: Mein liber tanz, «Люди-птицы» и «Дай мне делать мое дело». И играем с наслаждением! Я так думаю, что годика два поиграем, а потом опять ингумируем.
«ПИДАРАСАМ, СТУДЕНТАМ, ЖИДАМ…»
А лирические герои конфликтуют со своим автором? На одном из концертов, когда тебя уговорили петь «Снежинку», ты что-то такое путаное объяснял аудитории, что это все, дескать, не ты, что это в тебя вселился дух геолога, вышедшего из тайги, исполненный сексуальных, социальных и национальных фобий. И автор, дескать, ни при чем, если его лирический герой — расист и гомофоб, он, дескать, сам от него страдает. И так далее. Где ты этих героев берешь?
Мои «лирические герои» — они все местные. Живут они тут. В России. Тут у нас среди снежинок и тайги много кто живет. В том числе геологи, расисты и гомофобы. И я не вижу причин почему бы в рамках художественного творения, коим является замечательная песня «Снежинка», не постебаться над этническими, социальными и сексуальными фобиями. Более эффективного лекарства от ксенофобии, чем сатира, на мой взгляд, человечество не придумало. Кстати, не в этом ли великая психотерапевтическая миссия анекдотов? Обратите внимание, что у анекдота и у фобии один предмет. Посмейся над ксенофобией, и она превратится в анекдот. Лиши анекдот юмора — получишь ксенофобию. Но это настолько больная тема, что она что-то там, в голове человека, блокирует, и привычные в быту вещи, будучи озвученными со сцены, воспринимаются непредсказуемо неадекватно. Знаете, как я «Снежинку» пел на дне рождения Жванецкого на его даче в Одессе, в саду? Гости Михаила Михайловича на девяносто процентов одесские евреи. Притом все они — умнейшие, тончайшие, образованнейшие люди, какие только могут быть интересны Жванецкому. Понятно, что это не «килька» по умственному развитию. Михаил Михайлович нас знает, любит, был много раз на спектаклях, с репертуаром знаком. Ну и меня там подорвали петь, и Жванецкий: «Леша! Спой “Снежинку”!» Я ему: «Михал Михалыч, вы точно уверены, что здесь следует ее петь?» — «Да». Пою. На фразе «пидарасам, студентам, жидам» я вижу… вернее, чувствую… там рядом был бассейн, так почему он не замерз в эту секунду, я не понимаю… То есть интеллигентные люди, обладающие огромным чувством юмора, юмора не понимают и воспринимают это как прямое оскорбление.
Разумеется, противоположные по смыслу строчки из других песен в тот момент не воспринимаются. «Они разделили отцов и детей на евреев и тра-та-татар…»
Разумеется… Так что на эту тему шутить следует максимально осторожно. Стоит или не стоит это делать вообще — это другой вопрос. Я считаю, что стоит, но я всегда четко понимаю, в какой аудитории это стоит делать, а в какой — нет. Иногда я не хочу, но аудитория настаивает.
И приходится автору извиняться за своего лирического героя, который, по сути, никакой не герой. И даже не антагонист. Скорее, некто из хора…
Этому лирическому герою еще раз нужно пересмотреть недавний финальный матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором выиграла русская команда. Последние два решающие очка нашим принес негр Холден, а старший тренер Дэвид Блатт — еврей, израильтянин и американец. И эта победа — русский национальный триумф.
А что такое ваш «Марш сексуального большинства»? Тоже триумф?
А вот это — пример того, как ксенофобия берет верх над чувством юмора. Изначально это была такая наша развлекуха, просто серия концертов под таким флагом. Разумеется, никто никуда не маршировал, и всерьез агитировать за традиционные формы секса мы никого никогда не собирались — не совсем же мы идиоты. Идея изначально была абсолютно шуточной. Тогда ни о каких маршах и гей-парадах никто и слыхом не слыхивал. А мы тогда приехали из Шотландии, с Эдинбургского фестиваля, посмотрев там гей-парад, и решили в Москве ради прикола организовать марш большинства под лозунгом «Ради жизни на Земле». В этом году, когда мы решили эту штуку восстановить, стало понятно, что сегодня это невозможно. Столько на этой теме повисло идеологических и политических собак, что сегодня это уже не смешно.
«КТО РАЗДЕЛИТ ЭТОТ ПОЗДНИЙ ПИР СО МНОЙ…»
Кроме концертов ваш основной источник доходов спектакли? Сколько их у вас?
Сейчас мы играем антрепризные спектакли «День радио», «День выборов», и «Двое других» по Аркадию Аверченко я по-прежнему играю с Максом Леонидовым и Андрюшей Ургантом. Хороший такой смешной музыкальный спектакль. Если бог даст, собираемся мы восстановить к февралю «Циркус», который играли всего пять раз: четыре раза в московской «России», один — в «Октябрьском» в Санкт-Петербурге. Потом эта программа накрылась, потому что была чрезвычайно громоздкой. Хорошая была программа, но мы на ней просто сдохли, потому как держать это шоу было невозможно. У нас там была балетная группа 15 человек, цирковые актеры и оркестр человек 12. В итоге всех вместе на сцене было человек 50. Оборудование, огромные декорации. Контролировать все это было невозможно, и в какой-то момент я просто не выдержал. А сегодня мне сделали предложение, от которого было трудно отказаться, потому что это было предложение с элементами наезда, и поступило оно от человека по имени Валдис Пельш.
А вообще основные деньги откуда? С концертов? Гастролей?
Трудно сказать. По-разному. У нашей группы основные деньги — от выступлений на всяких корпоративных мероприятиях. Иногда это девяносто процентов заработка. На корпоративах мы играем, в том числе, и потому, что люди, которые нас слушали, будучи студентами различных высших учебных заведений — Новосибирского, Московского, Петербуржского, Киевского университетов, — сегодня являются владельцами большинства российских компаний. А в IT-компаниях контингент, с которым мы двадцать лет назад общались за студенческим столом, составляет девяносто процентов топ-менеджмена. Вот поэтому мы фигачим много, очень много концертов. Но хотелось бы, чтобы соотношение билетной и корпоративной публики было 50х50. Мы же в месяц играем 1–2 концерта для обычных зрителей, 10–15 — для корпоративных заказчиков. И это неприятно. Не потому, что они нам хамят или танцуют пьяными. Как правило, публика чрезвычайно любезна. Но корпоративы — это выступления на праздниках. А когда у людей праздник, мы не поем о смерти, ненависти и прочих непраздничных форматах человеческого существования. А хочется уделять внимание всем аспектам человеческой природы, не только мажорным. Поэтому такой режим выступлений плох тем, что ограничивает репертуар.
«КАБЫ Я БЫЛ КАК БУДДА…»
От насилия над репертуаром бывают творческие кризисы. Что тогда утешает художника? Алкалоиды? Канабиоиды? Галлюциногены? Сюжеты типа «поскорей вискаря» — оттуда?
Не знаю. Но на самом деле художника утешит лишь время и количество новой информации. Мы за наши почти 25 лет переживали тяжелейшие кризисы. Например, перед нашим двадцатилетием было полное ощущение, что мы готовы сыграть прощальный концерт и разойтись. А реально спасает, выводит из кризисов вбрасывание новых идей. Как вбрасывание шайбы. А что касается всякого рода канабиоидов и прочих сомнительных радостей, то совершенно очевидно и давным-давно понятно, что употребление наркотиков, индивидуальное ли, коллективное, всей рок-группой, не приводит к исцелению, а ведет ровно в противоположном направлении. Мы это дело не практикуем.
То есть человеку, для того чтобы решить, что он — Бэтмен, ничего курить не нужно. И это правильно. Бэтмен — не курит. А вот песенка «Сталинский сокол» — это что? Стеб над советским мифом? Или участие в нем постфактум? Вообще, тема советского проекта сохраняет эстетическую привлекательность?
Эстетически советский миф, конечно, привлекателен. Этически непривлекателен. А эстетически — да. Как и любой миф вообще. Привлекателен именно своим мифологизмом. Советский проект — один из величайших мифов в истории человечества с блистательной попыткой воплощения. В архитектуре, кино, допустим. Как раз поэтому художники-авангардисты и поддержали советскую власть, поскольку увидели в ее причудливой модернизации торжество искусства над реальностью, в котором мир существует не в соответствии с законами природы, а согласно воле творца. Отсюда и все эти архетипы космогонического мифа, реализованные в советских культах. И «Сталинский сокол» — это прежде всего авангардный гротеск на тему героического мифа, в котором герой в советской идеологии, как Пуруша в индуизме, собой исчерпывает вечность.
Кстати, о вечности. Где ты будешь жить, когда умрешь?
К сожалению, я не знаю, где я буду жить, когда умру. Приходится, причем с искренним сожалением, констатировать, что я не религиозен и даже ни во что особенно не верую, что усугубляет мое поражение перед вечностью. Поэтому я думаю, что, когда умру, нигде не буду жить. И представить себе этого не могу. На самом деле от невозможности представить или даже помыслить вечность, бесконечность, небытие человеческое подсознание начинает придумывать всевозможные ады, раи, вальгаллы, преисподние, геенны. Я, честно говоря, не очень во все это верю. Я просто люблю человека как биологический объект, наделенный разумом и, несомненно, душой. Исключительно исходя из этого, считаю — и в этом месте я позволю себе пафосное высказывание: праведно жить необходимо не для того, чтобы после смерти очутиться в раю, а для того, чтобы при жизни тебя уважали со-живущие рядом с тобою граждане. Вот это мне действительно очень важно.
Но помирать с пониманием того, что ты не сделал нечто главное в своей жизни, обидно. Это главное ты уже сделал или оно еще впереди?
Я не пробовал умирать. И сейчас бы не хотелось. Думаю, что я еще могу много-много сделать. Разумеется, амбиций написания восьмичастной оперы во мне нет. Я просто готов на протяжении еще нескольких десятков лет просто жить и работать, чем и был занят до сих пор. Поэтому, прервется ли эта цепочка моих трудов и дней сейчас или через несколько десятков лет, с точки зрения мировой культуры, думаю, разницы никакой. Ничего сногсшибательного в моем отсутствии или присутствии в мире я не вижу.